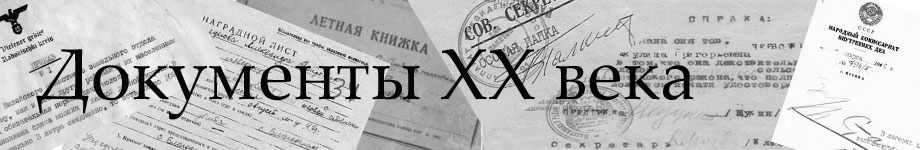Поиск по документам XX века
Гоглидзе С.А. – Меркулову В.Н. об эмиграции в Маньчжурии. 29 декабря 1944 г.
Докладная записка УНКГБ СССР по Хабаровскому краю о положении белой эмиграции в Маньчжурии и оперативных мероприятиях по ее разложению
29 декабря 1944 г.
Совершенно секретно
№ 100972
Народному комиссару государственной безопасности Союза ССР комиссару госбезопасности 1-го ранга [В.Н.] Меркулову
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы о положении белой эмиграции в Маньчжурии дают основания ставить вопрос о целесообразности нашего активного вмешательства в те процессы, которые происходят в настоящее время в среде этой части населения Маньчжурии.
По последним данным, в Маньчжурии живет около 75000 «российских эмигрантов», в подавляющем большинстве русской национальности, среди которых обширный слой составляют белоэмигранты, прибывшие в Маньчжурию после 1917 г. За четверть века, прошедшие со времени их изгнания из пределов нашей страны, белоэмигранты претерпели значительные изменения в своем составе. Старшее поколение, принимавшее непосредственное и активное участие в вооруженной борьбе против советской власти, ныне в большинстве своем физически состарилось и постепенно, из года в год, вымирает. Значительная часть этого старшего поколения, обремененная повседневными житейскими заботами, испытывая материальную нужду и разочаровавшись в программах своих организаций, совершенно отошла от политической антисоветской деятельности и, по выражению главарей «Российского Фашистского Союза», превратилась в «обывателей», растворившись в общей массе эмигрантов.
Второе поколение белой эмиграции, выросшее, а зачастую и родившееся в Маньчжурии, в массе своей равнодушно к «заветам отцов», и его политические взгляды и, в частности, отношение к Советскому Союзу формируются далеко не так, как желательно это руководству белой эмиграции. Чувства злобы, ненависти иди даже простой неприязни к Советской власти, испытываемые старшим поколением, для белоэмигрантской молодежи не всегда понятны и не находят достаточно полного отзвука у нее. Далекое прошлое, к тому же ими непосредственно не пережитое, интересует молодежь значительно менее, чем события сегодняшнего дня, развертывающиеся у нее на глазах и имеющие прямое отношение к ее нынешней повседневной жизни, к ее судьбе.
Маньчжурия для эмигрантов не стала «второй родиной», они там не ассимилировались, и по языку и морально-бытовому укладу составляют чужеродный элемент в этой стране. Экономическое положение эмиграции всегда было неустойчивое, но особенно резко оно ухудшилось в последнее время. Если прежде, еще совсем недавно, японцы, учитывая особую роль эмигрантов в своих антисоветских планах, создавали для них некоторые преимущества, подкармливали их за счет усиленной эксплуатации китайского населения, то сейчас в условиях, когда все людские и материальные ресурсы мобилизованы на ну-
[19]
жды войны, японцы лишены этой возможности маневрировать и вынуждены класть под пресс и эту особую часть населения Маньчжурии. Практически это сказывается в прямой экспроприации более состоятельной части эмиграции — коммерсантов, владельцев мелких предприятий, зажиточных крестьян, в увольнении многих тысяч служащих административных учреждений, промышленно-финансовых предприятий, магазинов, ресторанов, увеселительных заведений и насильственном переселении их для занятия земледелием в Тоогэнский район, который сами эмигранты, по условиям жизни там, называют «каторгой» и «концентрационным лагерем». Значительно сужены возможности получения образования, не только высшего, но и среднего. Если к этому добавить фактически полное политическое бесправие эмигрантов, вмешательство японцев в их религиозную жизнь, что вызывает особенно сильное брожение среди белого казачества в Трехречье, где значительно влияние староверов, и имеющиеся многочисленные факты глумления японцев над национальными чувствами и человеческим достоинством русских в Маньчжурии, то можно с полным основанием утверждать, что эмиграция в своей массе, и особенно молодежь, резко отрицательно относится к японцам.
В немалой степени порождению и аккумулированию подобных антияпонских настроений способствуют как реальная перспектива военного разгрома японцев в тихоокеанской войне, так и победа Советского Союза над фашистской Германией. Сейчас более чем когда-либо всеми ощущается непрочность положения японцев в Маньчжурии и неясность будущего этой страны. Эмигранты не исключают возможности вторжения войск Красной армии на территорию Маньчжурии и в предвидении этого стремятся не компрометировать себя явной связью с японцами. А героическая и победоносная отечественная война Советского Союза против Германии привела к тому, что значительные слои эмигрантов, и в первую очередь опять-таки молодежь, остро почувствовали себя русскими людьми и в их среде зародилось даже некое подобие патриотического движения, стихийного, организационно неоформленного, без ясно сформулированной программы, движения, выражавшего всего лишь их сочувствие к русскому народу, подвергшемуся вероломному нападению. «Оборонцы», как стали именовать эмигрантов, придерживающихся подобных взглядов, навлекли на себя репрессии и гонения со стороны японцев и фашистского белоэмигрантского руководства. Против «оборончества» была проведена ожесточенная кампания как в белоэмигрантской печати, так и на собраниях эмигрантов, и в результате всех этих мероприятий это движение оказалось не в состоянии основательно всколыхнуть эмигрантское болото. Правда, при том положении, в котором находится эмиграция, полностью зависимая от японцев, трудно было ожидать чего-либо значительного от глухого брожения, начавшегося в этой среде.
Японцы, несмотря на неблагоприятный ход войны на Тихом океане и отдаление перспективы их вооруженного наступления против Советского Союза, несмотря на то, что они лишены возможности подкармливать эмиграцию в целях ее подготовки ко времени такого наступления, в настоящее время эту подготовку ведут не только по-прежнему, но и значительно усилили ее. В по-
[20]
следнее время Японская Военная Миссия в Харбине активно работала над политическим сплочением эмиграции, над ликвидацией розни и грызни в ее среде. В настоящее время это привело к тому, что из всех белоэмигрантских политических организаций сохранил себя и идеологически, и организационно один лишь «Российский Фашистский Союз», претендующий на роль единственного политического объединения белоэмигрантов и в этом отношении пользующийся полной поддержкой ЯВМ. Не встречая организованного противодействия в эмигрантской среде, «Российский Фашистский Союз» умело использует материальные трудности и настроения отчаяния и беспросветности эмиграции, чтобы убедить ее в том, что иного выхода нет, как безраздельно связав свою судьбу с японцами, готовиться к «светлому часу» — началу войны против СССР, когда эмигранты вслед за японскими войсками будут отправлены на территорию советского Дальнего Востока, где им будут предоставлены широкие блага жизни. Ввиду того, что пропаганда этой программы сопровождается противопоставлением русского народа коммунистам и советской власти, некоторая часть эмиграции, в массе своей политически невежественной и беспринципной, впитывает в себя ту злобу и ненависть, которыми японцы через «Российский Фашистский Союз» изо дня в день отравляют ее сознание.
Дело, однако, не ограничивается одним лишь идеологическим воздействием на эмигрантов. В последнее время все эмигранты в обязательном порядке сведены в специальные воинские формирования, где основательно поставлено изучение военного дела. Можно считать ориентировочно, что в этих формированиях находится около 15 000 эмигрантов — мужчин в возрасте от 17-18 до 45 лет. Воспитываемый на фашистских концепциях, убеждаемый, что иного пути, кроме борьбы с Советской властью, — нет, личный состав этих эмигрантских формирований представляет собой серьезную опасность в случае вооруженного конфликта с Японией. Эта опасность вытекает не столько из численности этих формирований, сколько из того факта, что личный состав их, владея в совершенстве русским языком, будучи знаком с бытом населения Сов. Союза и по внешнему облику не отличаясь от этого населения, будет, несомненно, использован не для обычных боевых действий, а, главным образом, в качестве диверсионно-террористических банд, для всякого рода провокаций, для прямого шпионажа и, наконец, для занятия разного рода должностей в органах «местного самоуправления» (японцы, вероятно, используя опыт немцев на Западе, могут попытаться создать такие органы) и полиции, в качестве переводчиков при японских воинских частях и т. д. Практика деятельности ЯВМ в Маньчжурии, при переброске Миссиями на нашу территорию русской агентуры, при оформлении документов на этих лиц для нелегального проникновения их в наш тыл и оседания там, свидетельствует, что японцы уже сейчас учитывают эти благоприятные для них особенности эмигрантов.
Суммируя кратко вышеприведенные факты, можно утверждать, что в настоящее время в среде русской эмиграции в Маньчжурии наблюдается борьба двух тенденций: а) Развитие антияпонских настроений, обусловленных политико-экономическим режимом, созданным японцами для эмигрантов, и перспективой военного поражения Японии: наличие брожения, порожденного
[21]
отечественной войной Сов. Союза против немецких захватчиков, сопровождающегося ростом интереса к жизни в СССР, возникновением сочувствия к русскому народу, осознанием безнадежности своего положения, осознанием невозможности вновь обрести потерянную родину; б) Стремление японцев окончательно прибрать эмиграцию к своим рукам, поставить ее в полную политическую и экономическую зависимость от себя, идеологически сплотить ее на базе ненависти к коммунизму и советской власти и подготовить ее для широкого и эффективного использования на время войны между Японией и СССР.
В прямых интересах государственной безопасности необходимо наше активное вмешательство в борьбу этих двух тенденций. В наших силах и возможностях поставить и осуществить задачу политического раскола эмиграции, компрометации «Российского Фашистского Союза» и его руководства, задачу подрыва доверия японцев к эмиграции как к антисоветской колонии в Маньчжурии, с тем чтобы они вынуждены были, хотя бы частично, отказаться от своего замысла использовать эмигрантов для выполнения разведывательных и диверсионно-террористических заданий как сейчас, так и, особенно, во время войны с Советским Союзом.
Наиболее надежным и быстродействующим средством для осуществления этих задач считаю организацию специального радиовещания для эмигрантов в Маньчжурии, которое будет внешне инсценировано как работа подпольной радиостанции эмигрантов-«оборонцев».
Японцы, конечно, без особого труда установят, что радиостанция действует с территории Советского Союза, однако документально доказать этого не смогут, чем снимается вопрос о могущих возникнуть дипломатических осложнениях. В равной степени японцы не в состоянии будут заглушить наши радиопередачи, так как технически это довольно сложно осуществить.
Не исключено, тем более что японцы примут меры к этому, что и эмигранты поймут, откуда к ним обращаются. Однако твердой уверенности у них не будет; чем большие старания будут прилагать японцы и «Российский Фашистский Союз» к тому, чтобы убедить их в том, что это «происки ГПУ», тем сильнее будут их сомнения на этот счет, тем выше интерес к передачам радиостанции «оборонцев». Даже если допустить, что через некоторое время у них не останется никаких сомнений относительно местонахождения радиостанции, все же сам факт того, что к ним обращаются из Советского Союза, только еще более возбудит их интерес к нашим радиопередачам, а политически острое и злободневное содержание передач вызовет необходимый нам резонанс, будет способствовать росту и дальнейшему обострению антияпонских настроений. Не предугадывая сейчас, по какому руслу пойдут подобные настроения (в значительной степени от нас будет зависеть, в каком направлении развивать эти настроения), можно все же сказать, что японцы должны будут крепко призадуматься над тем, кого они имеют в лице эмигрантов: покорных им попутчиков или потенциальных врагов. А коль скоро японцы призадумаются над этим вопросом, наша цель частично уже будет достигнута.
[22]
Программы наших радиопередач, осуществляемых 2 раза в неделю в определенное время и на определенной, обычно принятой маньчжурскими радиостанциями волне, будут содержать информацию о неприглядном положении белоэмигрантов в Маньчжурии, об истинной роли «Российского Фашистского Союза» и Главного бюро по делам российских эмигрантов, о преступной, направленной против эмигрантов деятельности руководителей этих японских органов и международную информацию (значительное место в ней будет отведено Советскому Союзу), подаваемую с особой, весьма неблагоприятной для японцев точки зрения. Фактический материал для радиопередач предполагается брать из белоэмигрантской прессы, из сообщений маньчжурских радиостанций и, если возможно, из специальных сообщений [Харбинской] резидентуры, для чего необходимо будет указание 1-го Управления. Контакт с [Харбинской]резидентурой необходим также с целью проверки через нее слышимости наших радиопередач и степени реагирования радиослушателей.
Учитывая недавнее выступление белогвардейской прессы против настойчивых попыток эмигрантов слушать «иностранные» радиостанции, к которым, видимо, относятся советские радиостанции, так как мало кто из эмигрантов владеет европейскими языками, попыток, которые сопряжены с риском сурового наказания, предусматриваемого за подобное преступление маньчжурским уголовным кодексом, можно полагать, что наши радиопередачи с самого начала встретят внимательных слушателей и отклики на наше мероприятие быстро дойдут до резидентуры.
Для обслуживания радиостанции необходимо будет создать оперативную группу в составе: руководителя группы, редактора составителя материалов радиопередач и диктора, все из оперативного состава. Технический контроль наших радиопередач будет осуществлять отдел «Б» Управления. Тексты радиопередач должны утверждаться начальником Управления.
Прилагая при этом техническое обоснование подобных радиопередач и образцы текстов для радиовещания, прошу Вашего решения поданному вопросу.
ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту на « » листах *.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКГБ по ХАБ. КРАЮ КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА [Гоглидзе]
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 1-8. Подлинник. Машинопись.
_____
* Приложение не публикуется.
[23]
Здесь цитируется по изд.: Органы государственной безопасности СССР во Второй мировой войне. Победа над Японией. Сборник документов. М., 2020, с. 19-23.